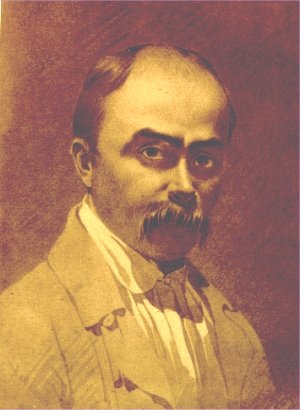По жизни я согласен с философом Гегелевым. (с)
Когда за неделю происходит очень много всего, время растягивается и начинает казаться, что прошло больше, чем неделя. Когда нет рутины, стабильного и одинакового списка мест, куда нужно попасть днем, что-то определенное там сделать, вернуться и т. д., дни очень разные и длинные. У меня такое ощущение, что с прошлого четверга поменялось очень... все. Хотя я, наверное, преувеличиваю.
Валентин Катаев - самовлюбленный дурак. Был. Уж простите поклонники его творчества и личности. Просто создалось впечатление по его произведению (ибо сам автор не говорит конкретно о жанре сего, так куда уж нам, убогим) "Алмазный мой венец...". Книга эта - своеобразное воспоминание автора о литературной жизни молодой Советской республики в 20-х годах. Преимущественно, конечно же, речь идет о Москве с забегом в Одессу, Харьков и Питер. Катаев рассказывает о поэтах и писателях, с которыми был знаком, дружил, делил тяготы революционного быта, работал на ниве литературы. Много интересных мелких происшествий, которые могут характеризовать как отдельных личностей, так и эпоху. Если пропускать места, где Катаев рассуждает о возвышенном, строит из себя стремящегося в конце жизни к "вечной весне" и понимающего, что ни чего не вернуть, а так же немного самовлюбленные речи, читать книгу интересно.
Но есть некоторые неточности, вполне понятные для не документального произведения, которое было написано по памяти. Могу сказать только относительно Булгакова. Есть своеобразная отсебятина. Так там немного приукрашен быт Булгаковых (Паршину говорила Татьяна Николаевна, что никаких борщей она не варила и не была такой уж спасительницей холостых друзей мужа, а самовара в их доме не было и близко), а также, кажется, напутано с датами начала работы над "Мастером и Маргаритой".
Вообще я бы отнес "Венец" к книгам, коих не видно за их авторами, так много их (авторов) по тексту. Я об этом уже писал, повторяться не буду. Катаев там получился такой весь талантливый, друг ближайший половины литераторов, что аж не верится. Вообще показалось, что спокойно он писал только о своих отношениях с теми, кто его немного сторонился, а дружественные чувства других преувеличивал. Ну да ладно. Это я так, о наболевшем.
В произведении Катаев упоминает о Ю. Олеше, Е. Петрове (Катаеве), И. Ильфе, О. Мандельштаме, Б. Пастенаке, В. Нарбуте, И. Бабеле, М. Зощенко, С. Есенине, В. Маяковском, В. Хлебникове и о многих других, чьих имен я, к сожалению, не помню (ибо впервые о них узнал, к своему стрыду). И конечно же - о Булгакове. Чего я про "Венец" и писать-то сел.
М.А. выведен в воспоминаниях под именем "синеглазый". Ниже - выдержки о Булгакове из книги.
читать дальшеЧто касается дома "Эльпит-рабкоммуна", то о нем был напечатан в
газете "Накануне" весьма острый, ядовитый очерк, написанный неким писателем,
которого я впредь буду называть синеглазым - тоже с маленькой буквы, как
простое прилагательное. Впоследствии романы и пьесы синеглазого прославились
на весь мир, он стал общепризнанным гением, сатириком, фантастом... ...а
тогда он был рядовым газетным фельетонистом, работал в железнодорожной
газете "Гудок", писал под разными забавными псевдонимами вроде Крахмальная
Манишка. Он проживал в доме "Эльпит-рабкоммуна" вместе с женой, занимая одну
комнату в коммунальной квартире, и у него действительно, если мне не
изменяет память, были синие глаза на худощавом, хорошо вылепленном, но не
всегда хорошо выбритом лице уже не слишком молодого блондина с
независимо-ироническим, а временами даже и надменным выражением, в котором
тем не менее присутствовало нечто актерское, а временами даже и лисье. Он
был несколько старше всех нас, персонажей этого моего сочинения, тогдашних
гудковцев, и выгодно отличался от нас тем, что был человеком положительным,
семейным, с принципами, в то время как мы были самой отчаянной богемой,
нигилистами, решительно отрицали все, что имело хоть какую-нибудь связь с
дореволюционным миром, начиная с передвижников и кончая Художественным
театром, который мы презирали до такой степени, что, приехав в Москву, не
только в нем ни разу не побывали, но даже понятия не имели, где он
находится, на какой улице. В области искусств для нас существовало только
два авторитета: Командор и Мейерхольд. Ну, может быть, еще Татлин,
конструктор легендарной "башни Татлина", о которой говорили все, считая ее
чудом ультрасовременной архитектуры. Синеглазый же, наоборот, был весьма
консервативен, глубоко уважал все признанные дореволюционные авторитеты,
терпеть не мог Командора, Мейерхольда и Татлина и никогда не позволял себе,
как любил выражаться ключик, "колебать мировые струны".
А мы эти самые мировые струны колебали беспрерывно, низвергали
авторитеты, не считались ни с какими общепринятыми истинами, что весьма
коробило синеглазого, и он строго нас за это отчитывал, что, впрочем, не
мешало пашей дружбе. В нем было что-то неуловимо провинциальное. Мы бы,
например, не удивились, если бы однажды увидали его в цветном жилете и в
ботинках на пуговицах, с прюнелевым верхом. Он любил поучать - в нем было
заложено нечто менторское. Создавалось такое впечатление, что лишь одному
ему открыты высшие истины не только искусства, но и вообще человеческой
жизни. Он принадлежал к тому довольно распространенному типу людей никогда и
ни в чем не сомневающихся, которые живут по незыблемым, раз навсегда
установленным правилам. Его моральный кодекс как бы безоговорочно включал в
себя все заповеди Ветхого и Нового заветов.
Впоследствии оказалось, что все это было лишь защитной маской втайне
очень честолюбивого, влюбчивого и легкоранимого художника, в душе которого
бушевали незримые страсти. Несмотря на всю свою интеллигентность и громадный
талант, который мы угадывали в нем, он был, как я уже говорил, в чем-то
немного провинциален. Может быть, и Чехов, приехавший в Москву из Таганрога,
мог показаться провинциалом. Впоследствии, когда синеглазый прославился и на
некоторое время разбогател, наши предположения насчет его провинциализма
подтвердились: он надел галстук бабочкой, цветной жилет, ботинки на
пуговицах, с прюнелевым верхом, и даже, что показалось совершенно
невероятным, в один прекрасный день вставил в глаз монокль, развелся со
старой женой, изменил круг знакомых и женился на некой
Белосельской-Белозерской, прозванной ядовитыми авторами "Двенадцати стульев"
"княгиней Белорусско-Балтийской". Синеглазый называл ее весьма великосветски
на английский лад Напси.
Но тогда до этого было еще довольно далеко.
Несмотря на все несходство наших взглядов на жизнь, нас сблизила с
синеглазым страстная любовь к Гоголю, которого мы, как южане, считали своим,
полтавским, даже как бы отчасти родственником, а также повальное увлечение
Гофманом. Эти два магических Г - Гофман и Гоголь - стали нашими кумирами.
Все явления действительности предстали перед нами как бы сквозь магический
кристалл гоголевско-гофманской фантазии. А мир, в котором мы тогда жили, как
нельзя более подходил для этого. Мы жили в весьма странном, я бы даже сказал
- противоестественном, мире нэпа, населенном призраками. Только вооружившись
сатирой Гоголя и фантазией Гофмана, можно было изобразить то, что тогда
называлось "гримасами нэпа" и что стало главной пищей для сатирического
гения синеглазого.
...Он не был особенно ярко-синеглазым. Синева его глаз казалась
несколько выцветшей, и лишь изредка в ней вспыхивали дьявольские огоньки
горящей серы, что придавало его умному лицу нечто сатанинское.
Это он пустил в ход словечко "гофманиада", которым определялось каждое
невероятное происшествие, свидетелем или даже участником коего мы были. Нэп
изобиловал невероятными происшествиями. В конце концов из нашего узкого
кружка слово "гофманиада" перешло в более широкие области мелкой газетной
братии. Дело дошло до того, что однажды некий репортер в кругу своих друзей
за кружкой пива выразился приблизительно так:
- Вообразите себе, вчера в кино у меня украли калоши. Прямо какая-то
гофманиада!
Впоследствии один из биографов синеглазого написал следующее:
"Он поверил в себя как в писателя поздно - ему было около тридцати,
когда появились первые его рассказы".
Думаю, он поверил в себя как в писателя еще на школьной скамье, не
написавши еще ни одного рассказа. Уверенность в себе как в будущем писателе
была свойственна большинству из нас; когда, например, мне было лет девять, я
разграфил школьную тетрадку на две колонки, подобно однотомному собранию
сочинений Пушкина, и с места в карьер стал писать полное собрание своих
сочинений, придумывая их тут же все подряд: элегии, стансы, эпиграммы,
повести, рассказы и романы. У меня никогда не было ни малейшего сомнения в
том, что я родился писателем. Хотя синеглазый был по образованию медик, но
однажды он признался мне, что всегда мыслил себя писателем вроде Гоголя.
Одна из его сатирических книг по аналогии с гофманиадой так и называлась
"Дьяволиада", что в прошлом веке, вероятно, было бы названо более по-русски
"Чертовщина": история о двух братьях Кальсонерах в дебрях громадного
учреждения с непомерно раздутыми штатами читалась как некая "гофманиада",
обильно посыпанная гоголевским перцем.
Синеглазый вообще был склонен к общению со злыми духами, порождениями
ада. Ненависть наша к нэпу была так велика, что однажды мы с синеглазым
решили издавать юмористический журнал вроде "Сатирикона". Когда мы выбирали
для него название, синеглазый вдруг как бы сделал стойку, понюхал воздух, в
его глазах вспыхнули синие огоньки горящей серы, и он торжественно, но
вместе с тем и восхищаясь собственной находкой, с ядовитой улыбкой на лице
сказал:
- Наш журнал будет называться "Ревизор"!
Издатель нашелся сразу: один из тех мелких капиталистов, которые вдруг
откуда-то появились в большом количестве и шныряли по Москве, желая как
можно выгоднее поместить неизвестно откуда взявшиеся капиталы. Можно ли было
найти что-нибудь более выгодное, чем сатирический журнал с оппозиционным
оттенком под редакцией синеглазого, автора нашумевшей "Дьяволиады"?
(Впрочем, не ручаюсь, возможно это было еще до появления "Дьяволиады".)
Вообще в этом сочинении я не ручаюсь за детали. Умоляю читателей не
воспринимать мою работу как мемуары. Терпеть не могу мемуаров. Повторяю. Это
свободный полет моей фантазии, основанный на истинных происшествиях, быть
может, и не совсем точно сохранившихся в моей памяти. В силу этого я избегаю
подлинных имен, избегаю даже выдуманных фамилий. Стихи, приведенные мною, я
цитирую исключительно по памяти, считая, что это гораздо жизненнее, чем
проверять их точность по книгам, хотя бы эти цитаты были неточны. Магический
кристалл памяти более подходит для того жанра, который я выбрал, даже - могу
сказать - изобрел.
Не роман, не рассказ, не повесть, не поэма, не воспоминания, не
мемуары, не лирический дневник... Но что же? Не знаю!
Недаром же сказано, что мысль изреченная есть ложь. Да, это ложь. Но
ложь еще более правдивая, чем сама правда. Правда, рожденная в таинственных
извилинах механизма моего воображения. А что такое воображение с научной
точки зрения, еще никто не знает. Во всяком случае, ручаюсь, что все здесь
написанное чистейшая правда и в то же время чистейшая фантазия. И не будем
больше возвращаться к этому вопросу, так как все равно мы не поймем друг
друга.
...Мы с синеглазым быстро накатали программу будущего журнала и
отправились в Главполитпросвет, где работал хорошо известный мне еще по
революционным дням в Одессе товарищ Сергей Ингулов, наш общий друг и
доброжелатель... Надо заметить, что в то время уже выходило довольно много
частных периодических изданий - например, журнальчик "Рупор", юмористическая
газетка "Тачка" и многие другие,- так что я не сомневался, что Сергей
Ингулов, сам в прошлом недурной провинциальный фельетонист, без задержки
выдаст нам разрешение на журнал, даже придет в восторг от его столь
счастливо найденного названия.
Мы стояли перед Ингуловым - оба в пальто - и мяли в руках шапки, а
Ингулов, наклонивши к письменному столу свое красное лицо
здоровяка-сангвиника, пробегал глазами нашу программу. По мере того как он
читал, лицо синеглазого делалось все озабоченнее. Несколько раз он поправлял
свой аккуратный пробор прилежного блондина, искоса посматривая на меня, и я
заметил, что его глаза все более и более угасают, а на губах появляется чуть
заметная ироническая улыбочка - нижняя губа немного вперед кувшинчиком, как
у его сестренки-синеглазки.
- Ну, Сергей Борисович, как вам нравится название "Ревизор"? Не правда
ли, гениально? - воскликнул я, как бы желая поощрить Ингулова. -
Гениально-то оно, конечно, гениально,- сказал Сергей Борисович,- но что-то я
не совсем понимаю, кого это вы собираетесь ревизовать? И потом, где вы
возьмете деньги на издание? Я оживленно объяснил, кого мы хотим ревизовать и
кто нам обещал деньги на издание. Ингулов расстегнул ворот своей вышитой
рубахи под пиджаком, почесал такую же красную, как лицо, будто распаренную в
бане грудь и тяжело вздохнул. - Идите домой,- сказал он совсем
по-родственному и махнул рукой. - А журнал? - спросил я. - Журнала не
будет,- сказал Ингулов. - Да, но ведь какое название! - воскликнул я. - Вот
именно,- сказал Ингулов. - Странно,- сказал я, когда мы спускались по
мраморной зашарканной лестнице. Синеглазый нежно, но грустно назвал меня
моим уменьшительным именем, укоризненно покачал головой и заметил: -
Ай-яй-яй! Я не думал, что вы такой наивный. Да и я тоже хорош. Поддался
иллюзии. И не будем больше вспоминать о покойнике "Ревизоре", а лучше пойдем
к нам есть борщ. Вы, наверное, голодный? - участливо спросил он.
Жена синеглазого Татьяна Николаевна была добрая женщина и нами
воспринималась если не как мама, то, во всяком случае, как тетя. Она
деликатно и незаметно подкармливала в трудные минуты нас, друзей ее мужа,
безалаберных холостяков. Об этих трудных минутах написал привезенный мною в
Москву птицелов:
"...и пылкие буквы МСПО расцветают сами собой над этой оголтелой
жратвой (рычи, желудочный сок!)... и голод сжимает скулы мои, и зудом ноет в
зубах, и маленькой мышью по горлу вниз падает в пищевод... и я содрогаюсь от
скрипа костей, от мышьей возни хвоста, от медного запаха смолы, заливающего
гортань... И на что мне божественный слух совы, различающий крови звон? И на
что мне сердце, стучащее в лад шагам и стихам моим! Лишь поет нищета у моих
дверей, лишь в печурке юлит огонь, лишь иссякла свеча - и луна плывет в
замерзающем стекле"...
Это было, конечно, написано птицеловом со свойственной ему
гиперболичностью.
У нас дело до таких ужасов голода не доходило. Однако... Однако... Не
могу не вспомнить с благодарностью и нежностью милую Татьяну Николаевну, ее
наваристый борщ, крепкий чай внакладку из семейного самовара, который мне
выпадало счастье ставить в холодной, запущенной кухне вместе с приехавшей на
зимние каникулы из Киева к своему старшему брату молоденькой курсисткой,
которая, как и ее брат, тоже была синеглазой, синеглазкой. Мы вместе,
путаясь холодными руками, засовывали пучок пылающих лучин в самовар: из
наставленной трубы валил зеленый дым, вызывавший у нас веселые слезы, а
сквозняк нес по ногам из-под кухонной двери. Голая лампочка слабого накала
свисала с темного потолка не ремонтировавшейся со времен первой мировой
войны квартиры в доме "Эльпит-рабкоммуна".
У синеглазого был настоящий большой письменный стол, как полагается у
всякого порядочного русского писателя, заваленный рукописями, газетами,
газетными вырезками и книгами, из которых торчали бумажные закладки.
Синеглазый немножко играл роль известного русского писателя, даже, может
быть, классика, и дома ходил в полосатой байковой пижаме, стянутой сзади
резинкой, что не скрывало его стройной фигуры, и, конечно, в растоптанных
шлепанцах. На стене перед столом были наклеены разные курьезы из
иллюстрированных журналов, ругательные рецензии, а также заголовок газеты
"Накануне" с переставленными буквами, так что получалось не "Накануне", а
"Нуненака".
В Москве находилась контора "Накануне", куда мы и сдавали свои
материалы, улетавшие в Берлин на дюралевом "юнкерсе" иди "дорнье комет", а
потом тем же путем возвращавшиеся в Москву уже напечатанными в этой
сменовеховской газете. Мы все подрабатывали в "Накануне", в особенности
синеглазый, имевший там большой успех и шедший, как говорится, "первым
номером".
Описание отличного украинского борща и крепкого чая с сахаром опускаю,
хотя и должен отметить, что в отличие от всех нас чай подавался синеглазому
как главе семьи и крупному писателю в мельхиоровом подстаканнике, а всем
прочим просто так, в стаканах. Иногда случалось, что борщ и чай не насыщали
нас. Хотелось еще чего-нибудь вкусненького, вроде твердой копченой
московской колбасы с горошинами черного перца, сардинок, сыра и стакана
доброго вина. А денег, конечно, не было. Тогда происходило следующее:
синеглазого и меня отправляли на промысел. Складывали последние копейки.
Выходило рубля три. В лучшем случае пять. И с этими новыми, надежными
рублями, пришедшими на смену бумажным миллионам п даже миллиардам военного
коммунизма, называвшимися просто "лимонами", мы должны были идти играть в
рулетку, с тем чтобы выиграть хотя бы червонец - могучую советскую десятку,
которая на мировой бирже котировалась даже выше старого доброго английского
фунта стерлингов: блистательный результат недавно проведенной валютной
реформы. Мы с синеглазым быстро одевались и, так сказать, "осенив себя
крестным знамением", отправлялись в ночь.
Современному читателю может показаться странным, даже невероятным, что
два советских гражданина запросто отправляются в казино играть в рулетку. Но
не забудьте, что ведь это был нэп,- и верьте не верьте! - в столице молодого
Советского государства, центре мировой революции, имелось два игорных дома с
рулеткой: одно казино в саду "Эрмитаж", другое на теперешней площади
Маяковского, а тогда Триумфальной, приблизительно на том месте, где сейчас
находятся Зал имени Чайковского, Театр сатиры и сад "Аквариум", а тогда был
цирк и еще что-то, то есть буквально в двух шагах от дома, где жил
синеглазый.
Вот, братцы, какие дела!
Над Триумфальной площадью с уютным садиком, трамвайной станцией и
светящимися часами, под которыми назначались почти все любовные свидания, в
размытом свете качающихся электрических фонарей косо неслась вьюжная ночь,
цыганская московская ночь. Иногда в метели с шорохом бубенцов и звоном
валдайских колокольчиков проносились, покрикивая на прохожих, как бы
восставшие из небытия дореволюционные лихачи, унося силуэты влюбленных
парочек куда-то вдоль Тверской, в Петровский парк, к "Яру", знаменитому еще
с пушкинских времен загородному ресторану с рябчиками, шампанским, ананасами
и пестрым крикливым цыганским хором среди пальм и папоротников эстрады. У
подъезда казино тоже стояли лихачи, зазывая прохожих:
- Пожа, ножа! А вот прокачу на резвой!..
Их рысистые лошади, чудом уцелевшие от мобилизаций гражданской войны,
перебирали породистыми, точеными ножками, и были покрыты гарусными синими
сетками, с капором на голове, и скалились и косились на прохожих, как злые
красавицы.
Откуда-то долетали звуки ресторанного оркестра. В двери казино входили
мутные фигуры игроков.
- Прямо-таки гофманиада! - сказал я. - Не гофманиада, а
пушкиниана,пробурчал синеглазый,- даже чайковщина. "Пиковая дама". Сцена у
Лебяжьей канавки. "Уж полночь близится, а Германа все нет"... Он вообще был
большой поклонник оперы. Его любимой оперой был "Фауст". Он даже слегка
наигрывал в обращении с нами оперного Мефистофеля; иногда грустно напевал:
"Я за сестру тебя молю", что я относил на свой счет.
...С бодрыми восклицаниями, скрывавшими неуместную робость, мы вошли в
двери казино и стали подниматься по лестнице, покрытой кафешантанной
ковровой дорожкой, с медными прутьями. - Эй, господа молодые люди! - кричали
нам снизу бородатые, как лесные разбойники, гардеробщики и синих поддевках.-
Куда же вы прете не раздевшись! Но мы, делая вид, что не слышим, уже
вступали в своих потертых пальто в игорный зал, где вокруг громадного
овального стола сидели игроки в рулетку и молодой человек с зеркальным
пробором и лицом сукина сына, так называемый крупье, раскладывал лопаткой с
длинной ручкой ставки и запускал белый шарик в карусель крутящегося
рулеточного аппарата с никелированными ручками. При этом он гвардейским
голосом провозглашал: - Гэспэда, делайте вашу игру. Мерси. Ставок больше
нет. Вокруг стола сидели и стояли игроки, страшные существа с еще более
страшными названиями - "частники", "нэпманы" или даже "совбуры", советские
буржуи. На всех на них лежал особый отпечаток какого-то временного,
незаконного богатства, жульничества, наглости, мещанства, смешанных со
скрытым страхом. Они были одеты в новенькие выглаженные двубортные
шевиотовые костюмы, короткие утюгообразные брючки, из-под которых блестели
узконосые боксовые полуботинки "от Зеленкина" из солодовниковского пассажа.
Перстни блистали на их коротких пальцах. Пробраться к столу было нелегко. Но
нам с синеглазым все-таки удалось протереться в своих зимних пальто к самому
столу, а я, заметив освободившееся место, умудрился даже сесть на стул, что
могло посчитаться большой удачей. Впрочем, нэпман, занимавший доселе этот
стул и отлучившийся лишь на минутку в уборную за малой нуждой, вернулся,
застегиваясь, увидел меня на своем стуле и сказал: - Пардон. Это мое стуло.
Вас здесь не сидело.- И, отстранив меня рукой, занял свое законное место.
Прежде чем поставить нашу единственную трешку, мы долго совещались. - Как вы
думаете, на что будем ставить? На черное или на красное? - озабоченно
спросил синеглазый. (Конечно, об игре на номера, о трансверсале и о прочих
комбинациях мы и не помышляли. Нас устраивал самый скромный выигрыш:
получить за три рубля шесть и скорее бежать к Елисееву за покупками - таков
был наш план, основанный на том традиционном предположении, что первая
ставка всегда выигрывает.) - Ставим на красное,- решительно сказал я.
Синеглазый долго размышлял, а потом ответил: - На красное нельзя. - Почему?
- Потому что красное может не выиграть,- сказал он, пророчески глядя вдаль.
- Ну тогда на черное,предложил я, подумав. - На черное? - с сомнением сказал
синеглазый и задумчиво вздохнул.- Нет, дорогой...- Он назвал мое
уменьшительное имя.На черное нельзя. - Но почему? - Потому что черное может
не выиграть. В таком духе мы долго совещались, пытаясь как-нибудь обхитрить
судьбу и вызывая иронические взгляды и даже оскорбительные замечания богатых
нэпманов. Мы молча сносили наше унижение и не торопились. Мы знали, что дома
нас ждут друзья и нам невозможно вернуться с пустыми руками. Конечно, мы
могли бы в одну минуту проиграть свой трояк. Но ведь без риска не было шанса
на выигрыш. Мы медлили еще и потому, что нас подстерегало зловещее зеро, то
есть ноль, когда все ставки проигрывали. Естественно, что именно ради этого
зловещего зеро Помгол - Комиссия помощи голодающим Поволжья - и содержал
свои рулетки. Однако судьба почти всегда была к нам благосклонна. Мы ставили
на черное или на красное, на чет или на нечет и почему-то выигрывали. Быть
может, нам помогала нечистая сила, о которой впоследствии синеглазый написал
свой знаменитый роман.
Не делая второй ставки и схватив свои шесть рублей, мы тут же бежали по
вьюжной Тверской к Елисееву и покупали ветчину, колбасу, сардинки, свежие
батоны и сыр чеддер - непременно чеддер! - который особенно любил синеглазый
и умел выбирать, вынюхивая его своим лисьим носом, ну и, конечно, бутылки
две настоящего заграничного портвейна. Представьте себе, с какой надеждой
ожидала нас в доме "Эльпит-рабкоммуна" в комнате синеглазого вся наша
гудковская компания, а также и синеглазка, в которую я уже был смертельно
влюблен и прелесть которой все никак не мог объяснить ключику, сказавшему
мне как-то в ответ на мои любовные излияния: - Ты напрасно стараешься. Я
тебе могу в одной строчке нарисовать портрет синеглазки: девушка в шелковой
блузке с гладкими пуговичками на рукавах. Понимаешь? Пуговички белые, без
дырочек, гладкие, пришивающиеся снизу. Очень важно, что они именно гладкие.
Это типично для почти всех хороших, милых, порядочных девушек. Заметь себе
это и не делай излишних иллюзий.
Довольно много Катаев писал о "синеглазке", сестре М.А. Елене Булгаковой (Леле), в которую был влюблен, на которой собирался жениться, и, в последствии, которую считал своей самой сильной сердечной раной.
В конце романа, описывая скульптуры друзей, какими Катаев их себе представлял, о Булгакове он написал так:
В романтических зарослях цветущих кустов
боярышника, рядом со старым памятником Гуно, возле пробирающегося по
камешкам ручейка, дружески обнявшись о Мефистофелем, белела фигура
синеглазого - в шляпе с пером, с маленькой мандолиной в руках, поставившего
ноги в танцевальную позицию, всего во власти третьего Г - Гуно, но не
забывающего и двух первых: Гоголя, Гофмана... Я сразу узнал его по ядовитой
улыбке. И я вспомнил нашу последнюю встречу. Сначала у памятника сидящего на
Арбатской площади Гоголя, а потом у него в новой квартире, где он жил уже о
третьей своей женой. Он сказал по своему обыкновению: - Я стар и тяжело
болен. На этот раз он не шутил. Он был действительно смертельно болен и как
врач хорошо это знал. У него было измученное землистое лицо. У меня сжалось
сердце. - К сожалению, я ничего не могу вам предложить, кроме этого,- сказал
он и достал из-за окна бутылку холодной воды. Мы чокнулись и отпили по
глотку. Он с достоинством нес свою бедность. - Я скоро умру,- сказал он
бесстрастно. Я стал говорить то, что всегда говорят в таких случаях,-
убеждать, что он мнителен, что он ошибается. - Я даже вам могу сказать, как
это будет,- прервал он меня, не дослушав.- Я буду лежать в гробу, и когда
меня начнут выносить, произойдет вот что: так как лестница узкая, то мой
гроб начнут поворачивать и правым углом он ударится в дверь Ромашова,
который живет этаком ниже. Все произошло именно так, как он предсказал. Угол
его гроба ударился в дверь драматурга Бориса Ромашова... Его похоронили.
Теперь он бессмертен.
Ради справедливости стоит заметить, что Булгаков и Катаев друг друга не очень-то любили. Варламов предполагал, что это стало следствием уверености Катаева в том,что отношения с Еленой Афанасьевной прекратились из-за Булгакова. Этот сюжет описан им в рассказе "Медь, которая торжествовала".
В дневнике Елены Сергеевны осталась довольно показательная запись.
«25 марта (1939 года) …Пьяный Катаев сел, никем не прошенный, к столу, Пете (Вильямсу) сказал, что он написал – барахло – а не декорации, Грише Конскому – что он плохой актер, хотя никогда не видел его на сцене и, может быть, даже в жизни. Наконец, все так обозлились на него, что у всех явилось желание ударить его, но вдруг Миша тихо и серьезно ему сказал: вы бездарный драматург, от этого всем завидуете и злитесь. – „Валя, вы жопа“».
Катаев ушел мрачный, не прощаясь»
Я злораден и предвзят, но сцена эта меня очень радует.
Отельным плюсом от прочтения "Венца" стал вспыхнувший интерес к творчеству Олеши. Мне давно хотелось, вот, может хоть на этот раз дойдут до него руки.
Может, когда лучше узнаю Катаева, мое мнение о нем изменится. Изменилось же мнение о Татьяне Николаевне. Надеюсь, и Валентин Петрович еще преподнесет мне приятный сюрприз.
Валентин Катаев - самовлюбленный дурак. Был. Уж простите поклонники его творчества и личности. Просто создалось впечатление по его произведению (ибо сам автор не говорит конкретно о жанре сего, так куда уж нам, убогим) "Алмазный мой венец...". Книга эта - своеобразное воспоминание автора о литературной жизни молодой Советской республики в 20-х годах. Преимущественно, конечно же, речь идет о Москве с забегом в Одессу, Харьков и Питер. Катаев рассказывает о поэтах и писателях, с которыми был знаком, дружил, делил тяготы революционного быта, работал на ниве литературы. Много интересных мелких происшествий, которые могут характеризовать как отдельных личностей, так и эпоху. Если пропускать места, где Катаев рассуждает о возвышенном, строит из себя стремящегося в конце жизни к "вечной весне" и понимающего, что ни чего не вернуть, а так же немного самовлюбленные речи, читать книгу интересно.
Но есть некоторые неточности, вполне понятные для не документального произведения, которое было написано по памяти. Могу сказать только относительно Булгакова. Есть своеобразная отсебятина. Так там немного приукрашен быт Булгаковых (Паршину говорила Татьяна Николаевна, что никаких борщей она не варила и не была такой уж спасительницей холостых друзей мужа, а самовара в их доме не было и близко), а также, кажется, напутано с датами начала работы над "Мастером и Маргаритой".
Вообще я бы отнес "Венец" к книгам, коих не видно за их авторами, так много их (авторов) по тексту. Я об этом уже писал, повторяться не буду. Катаев там получился такой весь талантливый, друг ближайший половины литераторов, что аж не верится. Вообще показалось, что спокойно он писал только о своих отношениях с теми, кто его немного сторонился, а дружественные чувства других преувеличивал. Ну да ладно. Это я так, о наболевшем.
В произведении Катаев упоминает о Ю. Олеше, Е. Петрове (Катаеве), И. Ильфе, О. Мандельштаме, Б. Пастенаке, В. Нарбуте, И. Бабеле, М. Зощенко, С. Есенине, В. Маяковском, В. Хлебникове и о многих других, чьих имен я, к сожалению, не помню (ибо впервые о них узнал, к своему стрыду). И конечно же - о Булгакове. Чего я про "Венец" и писать-то сел.
М.А. выведен в воспоминаниях под именем "синеглазый". Ниже - выдержки о Булгакове из книги.
читать дальшеЧто касается дома "Эльпит-рабкоммуна", то о нем был напечатан в
газете "Накануне" весьма острый, ядовитый очерк, написанный неким писателем,
которого я впредь буду называть синеглазым - тоже с маленькой буквы, как
простое прилагательное. Впоследствии романы и пьесы синеглазого прославились
на весь мир, он стал общепризнанным гением, сатириком, фантастом... ...а
тогда он был рядовым газетным фельетонистом, работал в железнодорожной
газете "Гудок", писал под разными забавными псевдонимами вроде Крахмальная
Манишка. Он проживал в доме "Эльпит-рабкоммуна" вместе с женой, занимая одну
комнату в коммунальной квартире, и у него действительно, если мне не
изменяет память, были синие глаза на худощавом, хорошо вылепленном, но не
всегда хорошо выбритом лице уже не слишком молодого блондина с
независимо-ироническим, а временами даже и надменным выражением, в котором
тем не менее присутствовало нечто актерское, а временами даже и лисье. Он
был несколько старше всех нас, персонажей этого моего сочинения, тогдашних
гудковцев, и выгодно отличался от нас тем, что был человеком положительным,
семейным, с принципами, в то время как мы были самой отчаянной богемой,
нигилистами, решительно отрицали все, что имело хоть какую-нибудь связь с
дореволюционным миром, начиная с передвижников и кончая Художественным
театром, который мы презирали до такой степени, что, приехав в Москву, не
только в нем ни разу не побывали, но даже понятия не имели, где он
находится, на какой улице. В области искусств для нас существовало только
два авторитета: Командор и Мейерхольд. Ну, может быть, еще Татлин,
конструктор легендарной "башни Татлина", о которой говорили все, считая ее
чудом ультрасовременной архитектуры. Синеглазый же, наоборот, был весьма
консервативен, глубоко уважал все признанные дореволюционные авторитеты,
терпеть не мог Командора, Мейерхольда и Татлина и никогда не позволял себе,
как любил выражаться ключик, "колебать мировые струны".
А мы эти самые мировые струны колебали беспрерывно, низвергали
авторитеты, не считались ни с какими общепринятыми истинами, что весьма
коробило синеглазого, и он строго нас за это отчитывал, что, впрочем, не
мешало пашей дружбе. В нем было что-то неуловимо провинциальное. Мы бы,
например, не удивились, если бы однажды увидали его в цветном жилете и в
ботинках на пуговицах, с прюнелевым верхом. Он любил поучать - в нем было
заложено нечто менторское. Создавалось такое впечатление, что лишь одному
ему открыты высшие истины не только искусства, но и вообще человеческой
жизни. Он принадлежал к тому довольно распространенному типу людей никогда и
ни в чем не сомневающихся, которые живут по незыблемым, раз навсегда
установленным правилам. Его моральный кодекс как бы безоговорочно включал в
себя все заповеди Ветхого и Нового заветов.
Впоследствии оказалось, что все это было лишь защитной маской втайне
очень честолюбивого, влюбчивого и легкоранимого художника, в душе которого
бушевали незримые страсти. Несмотря на всю свою интеллигентность и громадный
талант, который мы угадывали в нем, он был, как я уже говорил, в чем-то
немного провинциален. Может быть, и Чехов, приехавший в Москву из Таганрога,
мог показаться провинциалом. Впоследствии, когда синеглазый прославился и на
некоторое время разбогател, наши предположения насчет его провинциализма
подтвердились: он надел галстук бабочкой, цветной жилет, ботинки на
пуговицах, с прюнелевым верхом, и даже, что показалось совершенно
невероятным, в один прекрасный день вставил в глаз монокль, развелся со
старой женой, изменил круг знакомых и женился на некой
Белосельской-Белозерской, прозванной ядовитыми авторами "Двенадцати стульев"
"княгиней Белорусско-Балтийской". Синеглазый называл ее весьма великосветски
на английский лад Напси.
Но тогда до этого было еще довольно далеко.
Несмотря на все несходство наших взглядов на жизнь, нас сблизила с
синеглазым страстная любовь к Гоголю, которого мы, как южане, считали своим,
полтавским, даже как бы отчасти родственником, а также повальное увлечение
Гофманом. Эти два магических Г - Гофман и Гоголь - стали нашими кумирами.
Все явления действительности предстали перед нами как бы сквозь магический
кристалл гоголевско-гофманской фантазии. А мир, в котором мы тогда жили, как
нельзя более подходил для этого. Мы жили в весьма странном, я бы даже сказал
- противоестественном, мире нэпа, населенном призраками. Только вооружившись
сатирой Гоголя и фантазией Гофмана, можно было изобразить то, что тогда
называлось "гримасами нэпа" и что стало главной пищей для сатирического
гения синеглазого.
...Он не был особенно ярко-синеглазым. Синева его глаз казалась
несколько выцветшей, и лишь изредка в ней вспыхивали дьявольские огоньки
горящей серы, что придавало его умному лицу нечто сатанинское.
Это он пустил в ход словечко "гофманиада", которым определялось каждое
невероятное происшествие, свидетелем или даже участником коего мы были. Нэп
изобиловал невероятными происшествиями. В конце концов из нашего узкого
кружка слово "гофманиада" перешло в более широкие области мелкой газетной
братии. Дело дошло до того, что однажды некий репортер в кругу своих друзей
за кружкой пива выразился приблизительно так:
- Вообразите себе, вчера в кино у меня украли калоши. Прямо какая-то
гофманиада!
Впоследствии один из биографов синеглазого написал следующее:
"Он поверил в себя как в писателя поздно - ему было около тридцати,
когда появились первые его рассказы".
Думаю, он поверил в себя как в писателя еще на школьной скамье, не
написавши еще ни одного рассказа. Уверенность в себе как в будущем писателе
была свойственна большинству из нас; когда, например, мне было лет девять, я
разграфил школьную тетрадку на две колонки, подобно однотомному собранию
сочинений Пушкина, и с места в карьер стал писать полное собрание своих
сочинений, придумывая их тут же все подряд: элегии, стансы, эпиграммы,
повести, рассказы и романы. У меня никогда не было ни малейшего сомнения в
том, что я родился писателем. Хотя синеглазый был по образованию медик, но
однажды он признался мне, что всегда мыслил себя писателем вроде Гоголя.
Одна из его сатирических книг по аналогии с гофманиадой так и называлась
"Дьяволиада", что в прошлом веке, вероятно, было бы названо более по-русски
"Чертовщина": история о двух братьях Кальсонерах в дебрях громадного
учреждения с непомерно раздутыми штатами читалась как некая "гофманиада",
обильно посыпанная гоголевским перцем.
Синеглазый вообще был склонен к общению со злыми духами, порождениями
ада. Ненависть наша к нэпу была так велика, что однажды мы с синеглазым
решили издавать юмористический журнал вроде "Сатирикона". Когда мы выбирали
для него название, синеглазый вдруг как бы сделал стойку, понюхал воздух, в
его глазах вспыхнули синие огоньки горящей серы, и он торжественно, но
вместе с тем и восхищаясь собственной находкой, с ядовитой улыбкой на лице
сказал:
- Наш журнал будет называться "Ревизор"!
Издатель нашелся сразу: один из тех мелких капиталистов, которые вдруг
откуда-то появились в большом количестве и шныряли по Москве, желая как
можно выгоднее поместить неизвестно откуда взявшиеся капиталы. Можно ли было
найти что-нибудь более выгодное, чем сатирический журнал с оппозиционным
оттенком под редакцией синеглазого, автора нашумевшей "Дьяволиады"?
(Впрочем, не ручаюсь, возможно это было еще до появления "Дьяволиады".)
Вообще в этом сочинении я не ручаюсь за детали. Умоляю читателей не
воспринимать мою работу как мемуары. Терпеть не могу мемуаров. Повторяю. Это
свободный полет моей фантазии, основанный на истинных происшествиях, быть
может, и не совсем точно сохранившихся в моей памяти. В силу этого я избегаю
подлинных имен, избегаю даже выдуманных фамилий. Стихи, приведенные мною, я
цитирую исключительно по памяти, считая, что это гораздо жизненнее, чем
проверять их точность по книгам, хотя бы эти цитаты были неточны. Магический
кристалл памяти более подходит для того жанра, который я выбрал, даже - могу
сказать - изобрел.
Не роман, не рассказ, не повесть, не поэма, не воспоминания, не
мемуары, не лирический дневник... Но что же? Не знаю!
Недаром же сказано, что мысль изреченная есть ложь. Да, это ложь. Но
ложь еще более правдивая, чем сама правда. Правда, рожденная в таинственных
извилинах механизма моего воображения. А что такое воображение с научной
точки зрения, еще никто не знает. Во всяком случае, ручаюсь, что все здесь
написанное чистейшая правда и в то же время чистейшая фантазия. И не будем
больше возвращаться к этому вопросу, так как все равно мы не поймем друг
друга.
...Мы с синеглазым быстро накатали программу будущего журнала и
отправились в Главполитпросвет, где работал хорошо известный мне еще по
революционным дням в Одессе товарищ Сергей Ингулов, наш общий друг и
доброжелатель... Надо заметить, что в то время уже выходило довольно много
частных периодических изданий - например, журнальчик "Рупор", юмористическая
газетка "Тачка" и многие другие,- так что я не сомневался, что Сергей
Ингулов, сам в прошлом недурной провинциальный фельетонист, без задержки
выдаст нам разрешение на журнал, даже придет в восторг от его столь
счастливо найденного названия.
Мы стояли перед Ингуловым - оба в пальто - и мяли в руках шапки, а
Ингулов, наклонивши к письменному столу свое красное лицо
здоровяка-сангвиника, пробегал глазами нашу программу. По мере того как он
читал, лицо синеглазого делалось все озабоченнее. Несколько раз он поправлял
свой аккуратный пробор прилежного блондина, искоса посматривая на меня, и я
заметил, что его глаза все более и более угасают, а на губах появляется чуть
заметная ироническая улыбочка - нижняя губа немного вперед кувшинчиком, как
у его сестренки-синеглазки.
- Ну, Сергей Борисович, как вам нравится название "Ревизор"? Не правда
ли, гениально? - воскликнул я, как бы желая поощрить Ингулова. -
Гениально-то оно, конечно, гениально,- сказал Сергей Борисович,- но что-то я
не совсем понимаю, кого это вы собираетесь ревизовать? И потом, где вы
возьмете деньги на издание? Я оживленно объяснил, кого мы хотим ревизовать и
кто нам обещал деньги на издание. Ингулов расстегнул ворот своей вышитой
рубахи под пиджаком, почесал такую же красную, как лицо, будто распаренную в
бане грудь и тяжело вздохнул. - Идите домой,- сказал он совсем
по-родственному и махнул рукой. - А журнал? - спросил я. - Журнала не
будет,- сказал Ингулов. - Да, но ведь какое название! - воскликнул я. - Вот
именно,- сказал Ингулов. - Странно,- сказал я, когда мы спускались по
мраморной зашарканной лестнице. Синеглазый нежно, но грустно назвал меня
моим уменьшительным именем, укоризненно покачал головой и заметил: -
Ай-яй-яй! Я не думал, что вы такой наивный. Да и я тоже хорош. Поддался
иллюзии. И не будем больше вспоминать о покойнике "Ревизоре", а лучше пойдем
к нам есть борщ. Вы, наверное, голодный? - участливо спросил он.
Жена синеглазого Татьяна Николаевна была добрая женщина и нами
воспринималась если не как мама, то, во всяком случае, как тетя. Она
деликатно и незаметно подкармливала в трудные минуты нас, друзей ее мужа,
безалаберных холостяков. Об этих трудных минутах написал привезенный мною в
Москву птицелов:
"...и пылкие буквы МСПО расцветают сами собой над этой оголтелой
жратвой (рычи, желудочный сок!)... и голод сжимает скулы мои, и зудом ноет в
зубах, и маленькой мышью по горлу вниз падает в пищевод... и я содрогаюсь от
скрипа костей, от мышьей возни хвоста, от медного запаха смолы, заливающего
гортань... И на что мне божественный слух совы, различающий крови звон? И на
что мне сердце, стучащее в лад шагам и стихам моим! Лишь поет нищета у моих
дверей, лишь в печурке юлит огонь, лишь иссякла свеча - и луна плывет в
замерзающем стекле"...
Это было, конечно, написано птицеловом со свойственной ему
гиперболичностью.
У нас дело до таких ужасов голода не доходило. Однако... Однако... Не
могу не вспомнить с благодарностью и нежностью милую Татьяну Николаевну, ее
наваристый борщ, крепкий чай внакладку из семейного самовара, который мне
выпадало счастье ставить в холодной, запущенной кухне вместе с приехавшей на
зимние каникулы из Киева к своему старшему брату молоденькой курсисткой,
которая, как и ее брат, тоже была синеглазой, синеглазкой. Мы вместе,
путаясь холодными руками, засовывали пучок пылающих лучин в самовар: из
наставленной трубы валил зеленый дым, вызывавший у нас веселые слезы, а
сквозняк нес по ногам из-под кухонной двери. Голая лампочка слабого накала
свисала с темного потолка не ремонтировавшейся со времен первой мировой
войны квартиры в доме "Эльпит-рабкоммуна".
У синеглазого был настоящий большой письменный стол, как полагается у
всякого порядочного русского писателя, заваленный рукописями, газетами,
газетными вырезками и книгами, из которых торчали бумажные закладки.
Синеглазый немножко играл роль известного русского писателя, даже, может
быть, классика, и дома ходил в полосатой байковой пижаме, стянутой сзади
резинкой, что не скрывало его стройной фигуры, и, конечно, в растоптанных
шлепанцах. На стене перед столом были наклеены разные курьезы из
иллюстрированных журналов, ругательные рецензии, а также заголовок газеты
"Накануне" с переставленными буквами, так что получалось не "Накануне", а
"Нуненака".
В Москве находилась контора "Накануне", куда мы и сдавали свои
материалы, улетавшие в Берлин на дюралевом "юнкерсе" иди "дорнье комет", а
потом тем же путем возвращавшиеся в Москву уже напечатанными в этой
сменовеховской газете. Мы все подрабатывали в "Накануне", в особенности
синеглазый, имевший там большой успех и шедший, как говорится, "первым
номером".
Описание отличного украинского борща и крепкого чая с сахаром опускаю,
хотя и должен отметить, что в отличие от всех нас чай подавался синеглазому
как главе семьи и крупному писателю в мельхиоровом подстаканнике, а всем
прочим просто так, в стаканах. Иногда случалось, что борщ и чай не насыщали
нас. Хотелось еще чего-нибудь вкусненького, вроде твердой копченой
московской колбасы с горошинами черного перца, сардинок, сыра и стакана
доброго вина. А денег, конечно, не было. Тогда происходило следующее:
синеглазого и меня отправляли на промысел. Складывали последние копейки.
Выходило рубля три. В лучшем случае пять. И с этими новыми, надежными
рублями, пришедшими на смену бумажным миллионам п даже миллиардам военного
коммунизма, называвшимися просто "лимонами", мы должны были идти играть в
рулетку, с тем чтобы выиграть хотя бы червонец - могучую советскую десятку,
которая на мировой бирже котировалась даже выше старого доброго английского
фунта стерлингов: блистательный результат недавно проведенной валютной
реформы. Мы с синеглазым быстро одевались и, так сказать, "осенив себя
крестным знамением", отправлялись в ночь.
Современному читателю может показаться странным, даже невероятным, что
два советских гражданина запросто отправляются в казино играть в рулетку. Но
не забудьте, что ведь это был нэп,- и верьте не верьте! - в столице молодого
Советского государства, центре мировой революции, имелось два игорных дома с
рулеткой: одно казино в саду "Эрмитаж", другое на теперешней площади
Маяковского, а тогда Триумфальной, приблизительно на том месте, где сейчас
находятся Зал имени Чайковского, Театр сатиры и сад "Аквариум", а тогда был
цирк и еще что-то, то есть буквально в двух шагах от дома, где жил
синеглазый.
Вот, братцы, какие дела!
Над Триумфальной площадью с уютным садиком, трамвайной станцией и
светящимися часами, под которыми назначались почти все любовные свидания, в
размытом свете качающихся электрических фонарей косо неслась вьюжная ночь,
цыганская московская ночь. Иногда в метели с шорохом бубенцов и звоном
валдайских колокольчиков проносились, покрикивая на прохожих, как бы
восставшие из небытия дореволюционные лихачи, унося силуэты влюбленных
парочек куда-то вдоль Тверской, в Петровский парк, к "Яру", знаменитому еще
с пушкинских времен загородному ресторану с рябчиками, шампанским, ананасами
и пестрым крикливым цыганским хором среди пальм и папоротников эстрады. У
подъезда казино тоже стояли лихачи, зазывая прохожих:
- Пожа, ножа! А вот прокачу на резвой!..
Их рысистые лошади, чудом уцелевшие от мобилизаций гражданской войны,
перебирали породистыми, точеными ножками, и были покрыты гарусными синими
сетками, с капором на голове, и скалились и косились на прохожих, как злые
красавицы.
Откуда-то долетали звуки ресторанного оркестра. В двери казино входили
мутные фигуры игроков.
- Прямо-таки гофманиада! - сказал я. - Не гофманиада, а
пушкиниана,пробурчал синеглазый,- даже чайковщина. "Пиковая дама". Сцена у
Лебяжьей канавки. "Уж полночь близится, а Германа все нет"... Он вообще был
большой поклонник оперы. Его любимой оперой был "Фауст". Он даже слегка
наигрывал в обращении с нами оперного Мефистофеля; иногда грустно напевал:
"Я за сестру тебя молю", что я относил на свой счет.
...С бодрыми восклицаниями, скрывавшими неуместную робость, мы вошли в
двери казино и стали подниматься по лестнице, покрытой кафешантанной
ковровой дорожкой, с медными прутьями. - Эй, господа молодые люди! - кричали
нам снизу бородатые, как лесные разбойники, гардеробщики и синих поддевках.-
Куда же вы прете не раздевшись! Но мы, делая вид, что не слышим, уже
вступали в своих потертых пальто в игорный зал, где вокруг громадного
овального стола сидели игроки в рулетку и молодой человек с зеркальным
пробором и лицом сукина сына, так называемый крупье, раскладывал лопаткой с
длинной ручкой ставки и запускал белый шарик в карусель крутящегося
рулеточного аппарата с никелированными ручками. При этом он гвардейским
голосом провозглашал: - Гэспэда, делайте вашу игру. Мерси. Ставок больше
нет. Вокруг стола сидели и стояли игроки, страшные существа с еще более
страшными названиями - "частники", "нэпманы" или даже "совбуры", советские
буржуи. На всех на них лежал особый отпечаток какого-то временного,
незаконного богатства, жульничества, наглости, мещанства, смешанных со
скрытым страхом. Они были одеты в новенькие выглаженные двубортные
шевиотовые костюмы, короткие утюгообразные брючки, из-под которых блестели
узконосые боксовые полуботинки "от Зеленкина" из солодовниковского пассажа.
Перстни блистали на их коротких пальцах. Пробраться к столу было нелегко. Но
нам с синеглазым все-таки удалось протереться в своих зимних пальто к самому
столу, а я, заметив освободившееся место, умудрился даже сесть на стул, что
могло посчитаться большой удачей. Впрочем, нэпман, занимавший доселе этот
стул и отлучившийся лишь на минутку в уборную за малой нуждой, вернулся,
застегиваясь, увидел меня на своем стуле и сказал: - Пардон. Это мое стуло.
Вас здесь не сидело.- И, отстранив меня рукой, занял свое законное место.
Прежде чем поставить нашу единственную трешку, мы долго совещались. - Как вы
думаете, на что будем ставить? На черное или на красное? - озабоченно
спросил синеглазый. (Конечно, об игре на номера, о трансверсале и о прочих
комбинациях мы и не помышляли. Нас устраивал самый скромный выигрыш:
получить за три рубля шесть и скорее бежать к Елисееву за покупками - таков
был наш план, основанный на том традиционном предположении, что первая
ставка всегда выигрывает.) - Ставим на красное,- решительно сказал я.
Синеглазый долго размышлял, а потом ответил: - На красное нельзя. - Почему?
- Потому что красное может не выиграть,- сказал он, пророчески глядя вдаль.
- Ну тогда на черное,предложил я, подумав. - На черное? - с сомнением сказал
синеглазый и задумчиво вздохнул.- Нет, дорогой...- Он назвал мое
уменьшительное имя.На черное нельзя. - Но почему? - Потому что черное может
не выиграть. В таком духе мы долго совещались, пытаясь как-нибудь обхитрить
судьбу и вызывая иронические взгляды и даже оскорбительные замечания богатых
нэпманов. Мы молча сносили наше унижение и не торопились. Мы знали, что дома
нас ждут друзья и нам невозможно вернуться с пустыми руками. Конечно, мы
могли бы в одну минуту проиграть свой трояк. Но ведь без риска не было шанса
на выигрыш. Мы медлили еще и потому, что нас подстерегало зловещее зеро, то
есть ноль, когда все ставки проигрывали. Естественно, что именно ради этого
зловещего зеро Помгол - Комиссия помощи голодающим Поволжья - и содержал
свои рулетки. Однако судьба почти всегда была к нам благосклонна. Мы ставили
на черное или на красное, на чет или на нечет и почему-то выигрывали. Быть
может, нам помогала нечистая сила, о которой впоследствии синеглазый написал
свой знаменитый роман.
Не делая второй ставки и схватив свои шесть рублей, мы тут же бежали по
вьюжной Тверской к Елисееву и покупали ветчину, колбасу, сардинки, свежие
батоны и сыр чеддер - непременно чеддер! - который особенно любил синеглазый
и умел выбирать, вынюхивая его своим лисьим носом, ну и, конечно, бутылки
две настоящего заграничного портвейна. Представьте себе, с какой надеждой
ожидала нас в доме "Эльпит-рабкоммуна" в комнате синеглазого вся наша
гудковская компания, а также и синеглазка, в которую я уже был смертельно
влюблен и прелесть которой все никак не мог объяснить ключику, сказавшему
мне как-то в ответ на мои любовные излияния: - Ты напрасно стараешься. Я
тебе могу в одной строчке нарисовать портрет синеглазки: девушка в шелковой
блузке с гладкими пуговичками на рукавах. Понимаешь? Пуговички белые, без
дырочек, гладкие, пришивающиеся снизу. Очень важно, что они именно гладкие.
Это типично для почти всех хороших, милых, порядочных девушек. Заметь себе
это и не делай излишних иллюзий.
Довольно много Катаев писал о "синеглазке", сестре М.А. Елене Булгаковой (Леле), в которую был влюблен, на которой собирался жениться, и, в последствии, которую считал своей самой сильной сердечной раной.
В конце романа, описывая скульптуры друзей, какими Катаев их себе представлял, о Булгакове он написал так:
В романтических зарослях цветущих кустов
боярышника, рядом со старым памятником Гуно, возле пробирающегося по
камешкам ручейка, дружески обнявшись о Мефистофелем, белела фигура
синеглазого - в шляпе с пером, с маленькой мандолиной в руках, поставившего
ноги в танцевальную позицию, всего во власти третьего Г - Гуно, но не
забывающего и двух первых: Гоголя, Гофмана... Я сразу узнал его по ядовитой
улыбке. И я вспомнил нашу последнюю встречу. Сначала у памятника сидящего на
Арбатской площади Гоголя, а потом у него в новой квартире, где он жил уже о
третьей своей женой. Он сказал по своему обыкновению: - Я стар и тяжело
болен. На этот раз он не шутил. Он был действительно смертельно болен и как
врач хорошо это знал. У него было измученное землистое лицо. У меня сжалось
сердце. - К сожалению, я ничего не могу вам предложить, кроме этого,- сказал
он и достал из-за окна бутылку холодной воды. Мы чокнулись и отпили по
глотку. Он с достоинством нес свою бедность. - Я скоро умру,- сказал он
бесстрастно. Я стал говорить то, что всегда говорят в таких случаях,-
убеждать, что он мнителен, что он ошибается. - Я даже вам могу сказать, как
это будет,- прервал он меня, не дослушав.- Я буду лежать в гробу, и когда
меня начнут выносить, произойдет вот что: так как лестница узкая, то мой
гроб начнут поворачивать и правым углом он ударится в дверь Ромашова,
который живет этаком ниже. Все произошло именно так, как он предсказал. Угол
его гроба ударился в дверь драматурга Бориса Ромашова... Его похоронили.
Теперь он бессмертен.
Ради справедливости стоит заметить, что Булгаков и Катаев друг друга не очень-то любили. Варламов предполагал, что это стало следствием уверености Катаева в том,что отношения с Еленой Афанасьевной прекратились из-за Булгакова. Этот сюжет описан им в рассказе "Медь, которая торжествовала".
В дневнике Елены Сергеевны осталась довольно показательная запись.
«25 марта (1939 года) …Пьяный Катаев сел, никем не прошенный, к столу, Пете (Вильямсу) сказал, что он написал – барахло – а не декорации, Грише Конскому – что он плохой актер, хотя никогда не видел его на сцене и, может быть, даже в жизни. Наконец, все так обозлились на него, что у всех явилось желание ударить его, но вдруг Миша тихо и серьезно ему сказал: вы бездарный драматург, от этого всем завидуете и злитесь. – „Валя, вы жопа“».
Катаев ушел мрачный, не прощаясь»
Я злораден и предвзят, но сцена эта меня очень радует.
Отельным плюсом от прочтения "Венца" стал вспыхнувший интерес к творчеству Олеши. Мне давно хотелось, вот, может хоть на этот раз дойдут до него руки.
Может, когда лучше узнаю Катаева, мое мнение о нем изменится. Изменилось же мнение о Татьяне Николаевне. Надеюсь, и Валентин Петрович еще преподнесет мне приятный сюрприз.






 Я вспомнил о своей любимой сказке. Хотя я жутко боялся сказку про Котигорошка, я ее безумно любил.
Я вспомнил о своей любимой сказке. Хотя я жутко боялся сказку про Котигорошка, я ее безумно любил. ), добывать пищу и творить чудеса. Но их счастливый быт обломал таинственный дедуля, который побил по очереди побратимов Котигорошка, а когда нарвался на последнего, оказался с бородой, зажатой в расколотом дубе. Кстати говоря, дед поддавался тенденции и любви к вырыванию дубов, существующей в сказочном мире: когда Котигорошко привел ребят смотреть на это чудо, ни деда, ни дуба уже не было. По следам они вычислили, что дед пошел к глубоой яме и в ней пропал. И нет им тут успокоиться, но жопа настоящего героя всегда жаждет приключений. Котигорошка спустили в яму в одиночестве, так как остальные трое по всей видимости настоящими героями не были и в яму не полезли, отказались.
), добывать пищу и творить чудеса. Но их счастливый быт обломал таинственный дедуля, который побил по очереди побратимов Котигорошка, а когда нарвался на последнего, оказался с бородой, зажатой в расколотом дубе. Кстати говоря, дед поддавался тенденции и любви к вырыванию дубов, существующей в сказочном мире: когда Котигорошко привел ребят смотреть на это чудо, ни деда, ни дуба уже не было. По следам они вычислили, что дед пошел к глубоой яме и в ней пропал. И нет им тут успокоиться, но жопа настоящего героя всегда жаждет приключений. Котигорошка спустили в яму в одиночестве, так как остальные трое по всей видимости настоящими героями не были и в яму не полезли, отказались.