Голова работает через раз. Это плохо, но иногда приятно.
Умиляет обложка х))) Это, вероятно, та бедная лягушка, которая умирает в начале книги под руками профессора Персикова.
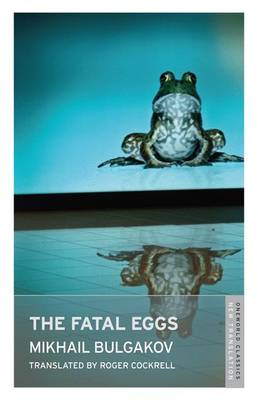
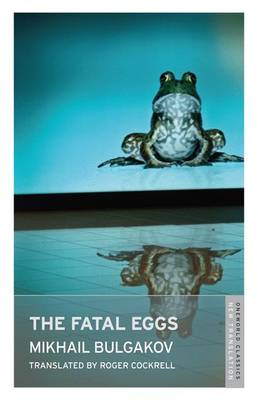
 ), пополнил вместе с кокетливым Бегемотом Державина список самых страшных картин, которые я видел. Итак, шедевры В. Глущенко и компании (их там таких еще четверо).
), пополнил вместе с кокетливым Бегемотом Державина список самых страшных картин, которые я видел. Итак, шедевры В. Глущенко и компании (их там таких еще четверо).









